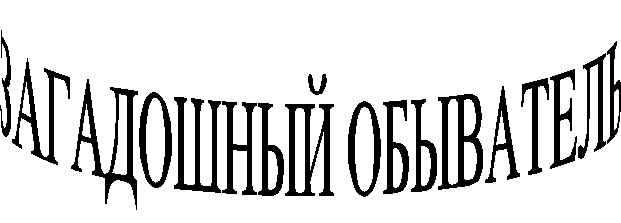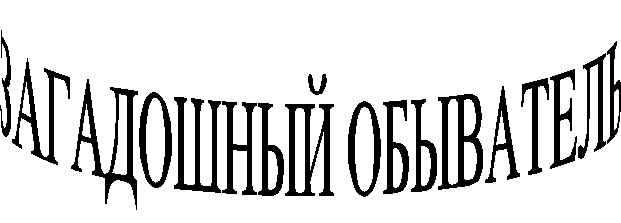* * *
День полирован солнцем.
Флагами машут маки.
Радостные собаки
Парк оглашают лаем.
Птицы в своём приволье.
Люди в своих дорожках.
Муха, совсем ручная.
Пони детей катает.
Ветер вздохнул. И ясно,
Тихо на сердце стало,
И голова прекрасно
Соображает что-то.
Большего мне не надо.
Я ухожу счастливый.
Благодаря за чудо.
Завтра опять понедельник.
ЧАС ПИК
Дни проносятся мимо незримо.
Да и это как дар принимай...
Солнце лезет скупым пилигримом
В переполненный красный трамвай.
И варёные лица жар-птица
Озарила сполна, через край —
Отражённая в стёклах столица:
Цепь бульваров, где липовый рай.
Над трамвайным малиновым звоном
Неба ярко-малиновый свод.
Наш водитель корячится ломом
Стрелку сдвинуть. А время не ждёт.
Будто изморозь летней картины,
На очках запотевший налёт.
Пучеглазые звери-машины
Враз ревущие: — Время! — Вперёд!
А душа, словно вша в керосине
Задыхаясь, глядит в небеса —
Но куда ей... — она в херувиме,
С перепугу, признает мента.
И не чует: незримый, как иней,
В недрах неба гудит самолёт...
А над ним — словно слон на перине —
Всем на помощь: надежда плывёт.
* * *
Дом. Тепло, какое-никакое.
За окном безлюднейший пейзаж,
Писанный небрежною рукою,
Кандидат дешёвых распродаж.
Муха сонно бродит по пейзажу,
Трёт брюшком оконное стекло.
Уголёк в печи возьму — нет — сажу.
Нарисую сам всё — набело!
Шелест пальм. Дыхание морское.
Всё — что ни привидится — спьяна!
Что-нибудь такое — колдовское.
А из мухи — сделаю слона.
Что-то пью. Чего-то распеваю.
Жизнь свою дурацкую кляну.
Но по-братски пищу разделяю —
Часть себе, а большую — слону!
* * *
Забыть язык прикосновений!
Речь с солнцем сплавленной реки.
Ландшафт меняющие тени.
Лесов дремотное томленье.
Росой омытые растенья.
И бездной ставшие зрачки.
Влюбляюсь в каждое мгновенье.
В поля. В цветы. В сердцебиенье.
В великодушие руки.
Приливы счастья — и тоски.
Себя — в лавине впечатлений
Я потерял. И не найти.
Всё доктор выслушал с терпеньем,
Шепнул с улыбкой сожаленья:
— Есть средство против наважденья —
Носите тёмные очки.
* * *
За вафельным окном веранды мрак.
В дремучих тучах заблудился месяц.
Ни, след его учуявших, собак,
ни леса не видать, ни околесиц.
А на веранде светлой — абажур —
корзиной перевёрнутой витает;
он по грибы сходить всю жизнь мечтает:
однажды в лес сбежать, пугая кур.
Но без него поблекнет «гарнитур»:
стол, самовар — а в нём души не чает
хозяйка.
Гость, заезжий балагур,
ей патоку вниманья расточает —
он увлечён, так мало различает,
что чайником кумира величает.
И обречён.
Нет — это чересчур!
* * *
Здравствуй —
На том берегу!
С новой —
Беспечною силою —
Рай наш,
На каждом шагу,
Дышит покоем —
Могилою.
Знаешь,
Себе я не лгу —
Ну, а тебе
Обязательно
Нынче
Сказать я смогу —
Пожили мы
Замечательно!
Время
Лазейку нашло.
И, как-то так
Получается,
Прошлое —
Как утекло:
Моросью сонной
Смывается.
Вишни шумят
На бегу:
— Чёрная осень,
Постылая!
Больше
Писать не могу —
Больше
Не встретимся,
Милая.
МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ
Зной за дверями караулил;
Он в темя вдалбливал одно:
Что время властвовать июлю —
Иного просто не дано.
И за столом сидел — Иулий:
Он на июль смотрел в окно.
Барометр клонило к буре:
Он был со зноем заодно.
Поэт, склонившись над кастрюлей
И ложкой шкрябая о дно,
В такт рифм скрипел на старом стуле:
Июль, Иулий — всё одно.
Ходили рифмы на ходулях.
Зной за дверями караулил.
Поэт смеялся ледяно.
Он отливал слова, как пули;
Ему хотелось, чтоб Иулий,
Их раскусив, упал в окно.
ПРИГЛАШЕНИЕ НА КАЗНЬ
Зови волынщиков, жалейщиков —
займёмся нашим представленьем —
сам выбирай себе тюремщиков:
свободным волеизъявленьем.
Что делать с грубою решёткою —
как хочешь? — обовьём цветами;
на плаху ставь графинчик с водкою;
кинь на топор ткань с бубенцами.
Поверь, всё у тебя получится.
Не мастерством бери — терпеньем.
И так приятно будет мучиться.
А кончим: танцами и пеньем.
* * *
— Кабы корова, отмахиваясь от мух,
коснулась бы,
невзначай, хвостом
струн арфы,
иной,
неземной,
родился бы звук, —
проплыло в предрассветном
сознании
Марфы.
Поправила платок,
коря себя за то,
что
сказала корове обидное слово,
спросонок,
забывши, за житейскою суетой,
своё назначение —
добротой,
и тёплым словом,
касаться всего живого.
* * *
Какой задумчивый союз:
самозабвенные до боли,
замурзаннее всяких муз,
занюханней последней соли —
жена и муж:
какие роли! —
Волшебный мир чужой неволи.
………………………………….
И в стороне слепая грусть
грызёт поводья своеволья.
* * *
Как полночь тиха.
Как...
лягушка —
я плюхнулся в пруд.
Споткнулся.
Глядел на тебя,
молодая луна.
* * *
Кафе «Аэлита».
Библейский пейзаж
На джинсах джигита.
Мы курим «Пегас».
Художник-бездельник
копирует нас.
Треногий мольбертик.
В зубах карандаш.
Он выдавил краски,
всей ловкостью рук
Обняв свой этюдник,
как муху паук.
Сидим, грациозны,
забыв о чём речь
вели — несерьёзным
решив пренебречь.
Века наплывали,
касалися плеч.
Как спины устали —
Осанку стеречь!
Я глянул украдкой
на этот этюд:
портретная хватка
есть — только не тут.
Прошу на смотрины! —
в картины уют.
Холмы Палестины?!
Под пальмой… Верблюд!
Чудак долгорукий:
изжёван пиджак,
пространные брюки —
буквально — сидят;
бесцветные глазки,
печальный недуг
весь предан огласке
в дрожании рук.
Кафе «Аэлита».
Библейский пейзаж.
— Послушай-ка — эта… —
за ужин отдашь.
* * *
К весне —
из осени —
природу зима ведёт.
Снег землю тихо укрывает.
Всё — чуда ждёт.
В окно на новые посадки гляжу.
Нет-нет,
не в предвкушеньи ягод сладких,
а как аскет —
принёсший лепту мирозданью —
благодаря
за снисхожденье, состраданье —
да просто для
того,
чтоб были у природы
мои черты,
ну, хоть чуть-чуть,
совсем немного —
для простоты
сиюминутного общенья —
нам узнавать
друг друга будет много легче
и понимать.
Легко —
одним движеньем мысли —
сад обежать,
желая каждую былинку —
к груди прижать.
И сердце чувствует такое…
Порыв! Прилив!
Всю флору, фауну —
собою —
соединив.
Но, в падшем мире…
Здесь, все теряют
святой наив.
Приходят зайцы —
и объедают
вершинки слив!
* * *
Когда рифмует ночь: возьму – во тьму,
и струны рвёт безумие на лире,
и сердце стонет, всё не по уму,
и давят стены в прибранной квартире,
и хочется на ленты разрезать
любимые ненужные картины –
да хоть сейчас – на Страшный Суд предстать,
как на обзор привычнейшей рутины –
случайно не закрытое окно –
дыханье ночи ближе; понимаешь,
что остаётся только лишь одно...
...назло всему –
пьёшь чай,
и засыпаешь.
* * *
Крестом, пытаясь оградиться —
Уходит солнце в купола.
Ночь воцаряется жар-птицей —
Неоном город обожгла.
Широкоглазая столица:
Все звёзды здесь — Ну, чудеса! —
Огнём горит перо жар-птицы,
Горят пустые небеса.
— Скажи-ка, дядя — ведь недаром?
— Да-да, такие, брат, дела —
Палили, сколько раз пожаром —
Всё ни во что — опять бела!
Был слышен, шелест ржавой стали.
Огонь затеплился в устах.
Два странных ангела меняли
Кресты на древних куполах.
* * *
Кто не любит тараканов?
Всяк их в доме привечает.
Крошки тайно оставляет.
Недомытую посуду.
Дихлофосом посыпает.
Чтобы вывести породу.
Приспособленную всюду.
Проложить дорогу чуду!
Может сам я тараканом,
Победив своё смущенье,
Стану в новом воплощеньи.
Зачитаю перед строем
Это вот стихотворенье —
И с тобой усы с усами
Мы сомкнём. Идя в сраженье.
Кто не любит тараканов?
Кто не любит тараканов??
Кто не любит тараканов???
Мы не знаем пораженья!!!
* * *
Кто там... с пращою бегал по лесам?
Не Артемида ли?
Ты на неё похожа.
В анфас.
Своим собакам — фас —
скажи.
Вот зверя след.
Вот сердце — я тебе его оставил —
и ты над ним три года волхвовала
(пока я шкурой вепря обрастал) —
теперь оно пригодно для пращи.
И зверь дозрел до пониманья сути:
и жути бессердечья, и тоски...
И ждёт броска.
Смотри —
он лишь для виду,
тебя потешить чтобы,
убегает.
Легко
такие тропы выбирая,
чтоб выбежать на чистую поляну —
и лицезреть
прекрасный взмах руки.
* * *
Литое нёбо небосвода.
Ничейный нимб день освящает.
Благоутробная природа
всех привечает.
С каким-то радостным испугом
вопили дети и, играя,
неслись стрижами друг за другом,
не уставая.
За пустырём, что звали лугом,
за речкой с ржавою водицей,
покрытой жёлтым вербным пухом,
где не напиться.
Комар весенний. Ищет друга.
Обзор присутствием сужает,
поцеловать пытаясь в губы.
Поёт и тает.
* * *
Лишь тот, кто ночь не спит,
кого всю ночь знобит,
кто так неровно дышит
да в темноту глядит,
быть может и услышит,
как бродит дождь по крыше,
железом шелестит,
и ласкою колышет
всё серебро ракит;
увидит, ободрившись,
как утро отсвет вишен
роняет на гранит...
А этажом повыше,
всё тише — тише — тише —
будильник отзвенит.
* * *
Малюет синей кистью ночь
свои картины –
синеет дом, берёзы рощ,
осин вершины
застыли в лунном столбняке,
полупрозрачны;
лес в светоносном сквозняке
посёлок дачный.
И тишь,
и лиственная дрожь –
первопричины –
тому,
что в доме одному
невыносимо.
И бродит в синем парике,
почти без страха,
как будто синий манекен,
сосед с собакой;
слюна на синем языке –
да, у собаки... –
а в небе спят,
плевав на всех,
тельцы и раки.
* * *
Мой Альтер-Эго нелюдим,
и как-то грустно человечен.
Всегда является один.
Он тоже жизнью изувечен.
Почти что полный, господин.
Широколобый. Многолысый.
Кропает копии картин.
Латает ими дыры в крыше.
Он разучился говорить.
Пытаясь выразить стихами,
Как Музу с жизнью примирить.
И мы молчим. Молчим часами.
Уютно коротаем с ним
бессмысленный, беспечный вечер.
Сидим и горестно мычим.
Тем выражая радость встречи.
* * *
Море — с пеною, будто — пивною.
Берег — всюду пивные бутылки,
Всякий хлам — что брезгливо волною
Ночью выброшен. Груди. Затылки.
Попы. Голые люди — соль пляжа.
Их сердца на пластмассовой вилке —
Это так — клевета для коллажа.
Скука: жрут, да лежат на подстилке.
ПОЛИГЛОТЫ
(встреча на далеком меридиане)
Мы пили кофе по-турецки.
А чай мы пили по-японски.
И пели песни по-французски.
Но водку выпили по-русски —
И изъяснялись — по-жаргонски.
А есть язык прекрасных жестов...
С трудом его припоминали:
Два фонаря светились... —
честно —
Мы обнялись и зарыдали.
* * *
Над селом Селена
Широко зевнула.
А на крыше — Лена.
А труба, ей — стулом.
И она играет.
На гитаре.
Дура.
Ночка-то, какая!
Тут нужна бандура!
Вертолёт доставил
Инструмент на крышу.
Как поёт, Елена,
Ласково:
— Парниша,
прикрути пропеллер
чуточку потише,
что-то мы не спелись
с ним, мой голос выше —
нет в моторе чувства —
сделай одолженье:
жертву для искусства,
ну, из уваженья.
Да… Была машина!
Лётчик: звали Гриша.
В крик всё населенье:
— Это выше крыши!
— Ладно, в чём проблема? —
шелестит Елена —
голосом, в котором
шум листвы смиренной.
И летит — к Селене.
Все соседи:
— Лена!
Ты метлу забыла!
Не догонишь.
Где нам!
* * *
На печи сидит
Чудо-рыба-кит —
Жаброй шевелит:
Но не говорит —
В потолок глядит.
Хо-ро-шо сидит.
Но поди-пойми:
Ежели во сне —
Видит ли он сны:
И о чём они —
О какой чуме..?
Ну, а коли бдит:
Стало быть, не спит:
В ус себе свистит,
На губе бренчит,
Да хвостом вертит —
Как его спросить:
Чтоб не зацепить:
Что там на уме..?
Да не лыком шиты люди:
По одёжке, чай, не судим —
А вино: не по посуде —
Эх, святая простота:
Всё поставит на места:
С печки скинули кита,
А закинули кота.
Прослезились — умилились:
— Лепота-а?..!!!
* * *
Незряшное это занятие:
Нелепицу в сети затягивать,
Пустяшные цветики-лютики
Искать в раздорожьи распутицы,
Бессмыслицей небыль укутывать,
И быль недомолвкою спутывать.
Коль разум за ум не схоронится,
Наградою будет бессонница.
Рубаху из смысла да вымысла
Надену на месяц украденный,
Подсяду сама возле-рядышком:
— Откушай-ка чай да оладушек.
* * *
Одуванчики на полу разбросаны —
скинул ветер, а может кот —
с вопросами:
к ним, пожалуйста, не ко мне,
я лишняя:
не заботят меня дела
жилищные.
Пусть валяются на полу,
мне нравится:
луг не луг, но душа
кудрявится,
кочевряжится и хорохорится...
Да болезнь моя с нею ссорится.
Говорит, лежи, отгулялася;
что, болезная, измечталась вся —
дуну чуть сильней — и пушинкою
полетишь, душа, над Ордынкою.
* * *
О, тихий омут интроверта,
(Замри, клиент, и не дыши)
В академической тиши
музея. Здесь душа бессмертна.
Жизнь тела в таинствах души.
Улыбка мрамора безмерна.
Здесь и порок — порог прочти —
в мир добродетели. Посмертно,
он поучает жить примерно.
Ну — приблизительно, почти.
Искусства храм. Не исполины
глядят на землю с высоты —
декоративные мужчины:
цивилизации цветы.
Красоты их не увядают,
отдохновение для глаз.
Они от скуки мир спасают.
собою заслоняя нас.
* * *
Поговори со мной о вечности,
Овечий Пастырь. Чай, икается?
С такою наглою беспечностью —
Лишь ангелы к тебе являются.
И я был ангелом. Мне маменька
Всё говорила: — Слышишь, кошенька,
Молись о нас, мой милый Ванюшка,
Тебя скорей услышит Боженька.
Услышал! С детских лет сиротствую.
Вся словно в северном сиянии —
В раю маманя. Я не злобствую.
А, так сказать, прошу внимания.
Поговори со мной о вечности,
Овечий Пастырь. Что мне каяться!
Покуда, детскою беспечностью —
Душа от зла обороняется.
* * *
Под окошком —
в росе — иван-чай.
На окошке —
сухой зверобой.
Я доволен собой
И судьбой:
Слон индийский
Забрёл невзначай.
И сидим мы вдвоём
Со слоном,
Подливая
Крутой кипяток.
Нет,
Не дам я
Слону — зверобой!
Голубой.
Да —
гуманный —
зверок.
ПРАЗДНИК
Праздник наступил.
Куцый, несуразный;
Он, что было сил,
Тщился быть не праздным.
Улицей ходил:
Дул в трубу надсадно,
Речи говорил —
Громкие — нескладно.
Праздник наступил!
Топоча ногами,
Русскую хватил,
Всколыхнул боками.
Бочку покатил
Гулкой мостовою,
Разогрел, залил
Сердце удалое...
И что было слов.,
Бранью изливался,
И что было дров.
Наломать пытался.
И простоволос,
В полушубке драном.
Он, что было слёз,
Плакал, окаянный.
И что было сил,
Утешали люди —
Ты уж не грусти:
Мы ж тебя не судим...
А часы всё бьют.
Громко, непрестанно —
Праздник! Праздник тут!
Надо же... Так странно...
* * *
Работа у лентяя —
не знать лица тоски —
Гнать,
позы не меняя
и не подняв руки!
Лень штука не простая.
Он учится: лежать,
В носу не ковыряя,
ленясь даже дышать.
Другая часть работы —
смотреть на облака
И ни о чём не думать —
ты думаешь — легка.
А ты, поди, попробуй:
ляжь — в ясный тихий день.
А в голову что лезет?
Ты понял. Хренотень!
Пока её прополешь —
весь праздный день пройдёт.
сам себя уволишь.
И полный дашь расчёт.
А лень не отпускает.
Тогда ты запоёшь!
— Лентяй, ты дело знаешь своё.
Цена мне — грош.
У матушки у лени в долгу я,
как в шелку.
Ну, пусть меня отпустит.
Не то, впаду в тоску.
Лентяй чуть улыбнётся.
Как солнцу — свежий пень.
Тоска и отвернётся.
Беги — пока не лень!
* * *
Сквозь марлю за окно
гляжу почти угрюмо;
как будто бы в кино,
лениво и бездумно.
Танцуют по двору́,
меж подвенечных вишен,
три платья на ветру;
им тот же голос слышен.
В том голосе басы,
подчёркнутые властно:
— И чтобы — как часы —
вернулись все! Всё ясно?!
Смешно часам:
— Тик-так,
сравненье всем приятно.
Часы всегда спешат:
вперёд — а не обратно!
* * *
Смиренница муза является в облике мыши.
Я думаю, ближе, чем мне — ей мой творческий путь.
Она не позволит расслабиться, да и уснуть.
С пути не свернуть. Свечи не задуть.
Дух горения чище и выше —
Когда уже разумом спишь —
Но пером всё скрипишь
И чего-то всё пишешь, и пишешь, и пишешь.
О муза, позволь, хоть часок, от тебя в тишине отдохнуть!
* * *
Солнце. Время течёт.
Лечит или калечит?
Где тот гамбургский счёт?
Человек не перечит —
Он лежит, как лежал —
Огуречик на пляже,
И малиновым стал
От предплечий до ляжек.
На песчаной бахче
Возлежат и другие,
Как и он, вообще
Абсолютно нагие.
Дар, а может — удар.
Знать бы, что ожидает.
Этот молод. Тот стар.
Ветер книгу листает.
Как запечный сверчок,
Как беспечный кузнечик,
Как печник-старичок,
Мастер дымных колечек,
Каждый сам создаёт
Эфемерное нечто
И надеется, что
Где-то рядом с ним — вечность.
Высоко-высоко,
Самолёт в небе тает.
И растаял — легко —
Он — наверно — всё знает!
* * *
С первыми лучами солнца
В лес зовёт хмельное лето.
Винной ягоды так много —
Перезревшей земляники —
Что поев её досыта,
Начинаю петь, балакать
Сам с собой.
Само собою,
Что выходят все медведи
Посмотреть и удивиться —
Я им кротко улыбаюсь,
Говорю всем: с добрым утром!
И они, поднявшись в небо,
Растворяются и тают.
Это белые медведи,
Что выходят из туманов.
Бурых я пока не видел.
Вот соседи, те встречали,
Говорят — что испугались:
Кто кого? Так и не понял.
Говорили: да все разом,
А руками как махали!
Словно муху отгоняли
Всем семейством от варенья.
* * *
Счастье — с дождя войти в дом, где топится печь.
Дверку открыть. На огонь неподвижно смотреть.
Ну, а несчастье — от жадности! Чтобы тепло приберечь —
Вьюшку до срока закрывши, уснуть. И в тепле умереть.
Только сердце
Почему-то
сладко таяло...
НА ЗАКАТЕ
Тают секунд леденцы —
вздох мимолётной прохлады.
Перевирают скворцы
Чьи-то чужие рулады.
Радио — теле — антенн
еле заметные тени.
Крестит хмельная сирень
настежь раскрытые сени.
Девочка с толстым мячом —
образ земного ли шара —
с криком бросает,
и всё
ждёт отголоска удара.
Газовый шлейф суеты
солнце рассеянно гладит.
К куполу неба кресты
бойкая церковка ладит.
С неба спустились венцы —
прямо в картонную тару.
Тают во рту леденцы,
катятся по тротуару.
* * *
Твоя рука
ласкает
облака.
Моя,
изнанки листьев лопуха
касаясь,
как пушистых гениталий —
вмиг —
засыпает.
Рядышком притих
кузнечик верещавший —
этот псих
устроил домик
из твоих сандалий.
Вот ветерок
принёс издалека —
морское нечто.
Как бы свысока,
рисует пастушков
для пасторали
Судьба —
и да хранит её рука
наш час —
на расстоянии
плевка
от
пасти
огнедышащей
Морали.
* * *
Тень от ствола.
От тени на стволе
Бежит
По свежевспаханной земле.
Куда бежишь?
Сейчас погаснет день.
И всех обнимет ночь —
Сплошная тень.
* * *
Тепло. На небе утро: тучки — две —
Играют в заблудившихся баранов.
В пруду амбар стоит на голове.
Воскресший лес выходит из туманов.
Но солнце по ту сторону живёт,
За горизонтом. Месяц в роще шарит.
Усмешкой тайной в лужице плывёт.
Петух проспался. Голос подаёт.
Пять тридцать. Скоро колокол ударит.
* * *
Тот островок
твоей улыбки —
денёк с судьбою мотыльков,
где тень плыла, подобьем скрипки,
от бесподобных облаков.
Что мы могли —
вздыхать и слушать,
смотреть на милые черты.
И видеть с болью наши души
вдали, у призрачной черты.
И слышать,
миг оберегая,
гул пустоты — гул суеты,
что к нам крадется жизнь другая,
где незнакомы я и ты.
Но, до оскомины знакомый,
упрямый привкус все живёт —
малины, лета... —
дух черёмух
сладчайшим эхом вяжет рот.
* * *
Трёхперьевым скрипом — серебряным скрежетом —
Раскрылась калитка: меж житом и нежитом.
В окошках не утро — а нежность сусальная.
Залётная осень. Такая печальная.
Смеясь, обронила кольцо обручальное!
Тот, кто его поднял, всю жизнь хочет маяться —
Надеясь, что встретит, то, с чем не встречаются…
Слепой осторожностью слово ломается!
Пусть — тёплой рукой ничего не касается.
И пусть никому никогда — не обласканный —
Не скрасит отчаянье детскими сказками.
Пусть каждою осенью в сень возвращается,
Где свет с полутенью беспечно венчается.
Всё ширится странная песня всполошная.
За кем закружилась ты, пыль придорожная?
Куда ты путь держишь, пастух одиночества,
Привычными тропами сна и пророчества?
Весна на дворе — время радужно каяться!
И снова свыкаться с тем, с чем не свыкается
* * *
Ты помнишь, дверь, крыльцо,
и дождь лил
восторженной печали бред,
как мы, обняв друг друга,
сохли,
любви сказав
и да,
и нет,
как полумрак, храня истому
цветущей липы,
отвердел
и весь вошёл в ограду,
к дому,
и принял форму наших тел.
Так
потемневший лик иконы
струит неугасимый свет —
то были мы,
и дождь,
и кроны,
и пачка мокрых сигарет.
* * *
Чадит лампада, догорает.
В углу, с бумажного листа,
Стыдливо ангел улетает,
Целуя спящие уста.
Шуршит листвою южный ветер.
Ракиты месяц серебрит.
Не меркнет — вновь светлеет — вечер.
Но, почему душа болит?
Болит о том — что ангел белый,
Совсем один, скорбя, летит.
Он не боится тьмы — он смелый,
Как всех, Господь его хранит.
Он ангел, и конечно, сможет
Преодолеть надзвёздный мрак.
Где надо — путь себе проложит
Святой молитвой — это так!
Одна лишь мысль его тревожит.
Помедлив у небесных врат —
Что — Господу сказать он сможет?
— Не просыпается мой брат!
Господь посмотрит с сожаленьем.
И с утешеньем поспешит.
— Брат спит — чтоб ты возрос терпеньем!
И снова в путь — благословит.
* * *
Что в природе — то в каждой натуре:
На плотине — весь лёд набекрень,
Насылает магнитные бури —
Солнцем вспыхнувший —
Вроде бы пень...
Осязаемой звенью лазури
Многомощный бряцает кузнец,
Чтоб Весне — в полоумном разгуле —
Цепь сковать из безумных сердец.
ЭПИЛОГ
Шёл муравей. Но, это между нами —
Надеясь снова встретить стрекозу.
Он много пережил. И стал с годами
Мудрей. Гордыни — ни в одном глазу.
Стал называть себя: я, старый трудоголик.
Сочувствовать — умеющим порхать
И ни о чём не думать, на просторе —
Дышать и ничего не запасать.
Душа цвела. В осколочках лазури
Ржаное поле. Серебрился лес.
Как много есть прекрасного в натуре
(во всех трёх смыслах). Сколько здесь чудес!
Одно из них — является пред нами
(всё опишу, на йоту не солгу) —
Татьянище, в чудовищной панаме,
Вытягивало ноги на лугу.
И муравья тихохонько коснулось
Огромной толстокожею пятой.
Расплющив. Рот раскрыло. И зевнуло.
И солнце, вдруг — исчезло надо мной.
Но я прозрел кармические связи:
Жизнь муравья — с ним рядом, тень с косой —
Татьянище — в каком, не помню, классе —
Я обзывал бездумной стрекозой!
* * *
Эй, ветер, что затих, в чём дело, парень?
Давай-ка за берёзкой приударим.
давай её согнём и заломаем,
обрежем ветки, свяжем и сровняем;
распилим, и расколем на поленья,
истопим баньку — чудное мгновенье —
когда её листва коснётся тела...
А что её уж нет — так что за дело?
* * *
Эта любовь,
Как заправский вор.
Т. е., законам наперекор!
Руки беспечны.
Губы близки.
И — мы не вечны —
Сомненья легки.
Ну, не любовь —
Так…— судьбы приговор:
Выстрел Амура —
Контрольный —
В упор.
Не было
Вздохов, рыданий, ссор.
Чем-то мажор,
Был похож на минор.
Песня,
Улыбкой язвила уста,
Просто,
Была она слишком проста:
Время не балует.
Надо жить —
Нежно и ветрено —
Отлюбить.
С наших обветренных
Жадных губ —
Горечь полыни —
Успеть бы вдохнуть!
* * *
Это осень!
Ест хрустко так — слышишь?
Мышь вернулась — с пленэра — домой.
Кто в гостях?
Мы, конечно, с тобой —
Экологии тёплая ниша —
С мимолётною летней судьбой.
Мышь — и особь, и стая, и племя —
Летом вольно пирует в полях.
Заявить о фамильных правах
Наступило законное время.
Ультиматум уже на столах!
Календарь на стене —
Часть сюжета,
Неизменного
Множество лет —
Вот часы,
Вот обратный билет,
Путь,
Усыпанный медной монетой,
Купы золотокрылых дерев.
* * *
Я время завязывал узелками —
и называл это — память.
Нам, надвое — бабушка грустно сказала:
жизнь — зал ожиданья вокзала.
А время, оно — узлы те украло,
что память вязала.
* * *
Я не привык чем-либо дорожить!
И вот — от уз, от пут, освободился.
И это надо было пережить.
Хотя бы для того —
Чтоб знать —
Чего
Лишился
БЕЗВРЕМЕНЬЕ
Я хочу умереть подростком —
чтоб вам было о ком пожалеть,
чтоб свечи воспалённым воском,
хоть кого-нибудь отогреть,
чтоб родные, спеша к могиле,
изумились: как долго живут,
и как мало они любили,
если дети их ждут —
вот тут.
Здесь,
на кладбище нашенском нищем,
нет и общей ограды вокруг —
каждый в клетке своей —
Бога ищем —
мой венок,
мой спасательный круг.
|