Александр Шишкин |
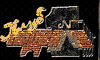 |
Механические послесловия к книге "Corpus AnimaeЗаданность процессов природы ─ наше поражение, если не очароваться гениальной и чистой идеальностью «неученого» Н.Ф.Федорова и «социалистической экзистенциальностью» А.Платонова Вот он, новый невольничий берег. Здесь ручные лебедки свистят, точно издали воздух осенний ропот доносит гусиный. Это вечно раскаленная добела макроподшипника ось, это тянет в полет легкокрылья небесные клинья в направленьи - вперед! Умираешь? Не можешь? - Вперед! Здесь все связано вместе: отражатель чешуйчатый у павлиньего глаза и торс, заставляющий взаимообразно кружиться над цветущей долиной острогрудую птицу и цветок, закрывающий створки своих лепестков, заставляет вращаться нагретого лемеха диски и вторую родную же часть у червя в перевернутом пахотном пласте, кандалы и браслеты на тонких запястьях с безупречным кристаллом наручного календаря… А лебедка без устали поднимает и вновь опускает ворота, как факир поднимает свой звездчатый плащ, как мешок надевает на жертву палач, как в орбите огромного водоворота нескончаем поток тех, кто трепетным сердцем своим ощущает, что кружится все только им, только жильным усильем одним, и не может из крутева выбраться годы и годы и не падать по капле на лопасти ночи и дня… *** Устойчивость предметного мира ─ и связь, и разрыв между индивидами. Через предмет, остатки матерьяльности мы пытаемся донести жалость о собственной уходящей жизни, ее тепло и тоску, но только немногие «преобразователи» мира смогли одушевить обезличенное начало вещи. Уже не рыба, но еще не тварь Из чрева тьмы в болотце неглубоком, В тепле его родном, в зрачке убогом Глазастых головастиков гурьба. А рядом куча свалена навоза, С отливом металлическим жуки В ней ползают, упруги и крепки, Как детские машинки с подзаводом, Что брошены в песочнице, пока Головки открывает одуванчик, Воинственный, седеющий захватчик, Десантник, улетевший в облака, - Здесь одиноко бродит палисадник Без дачников в тумане голубом, И комариный зуд его знаком, И ссадины, и оклики, и сзади, Где - доморощенный художник - жизнь Пейзаж смешала с постным натюрмортом, Где дом, и стол на улице, и горло Дерет «Маяк», и нету ни души, Там на веранде дедовская мебель Четвертый срок - по жизни рецидив - Телесный свой, несписанный архив В потомков воплощает незаметно. Ушли с детьми, на озеро, в кино, Дойти до леса, вовсе беспредметно, Пусть чай с клубникой на закате медном Уже остыл давно... Давным-давно. И с набивных ковров глядят олени, И мулине цветущий попугай Весь вылинял - поди узнай, Что важно для грядущих поколений: Салют махровый золотых шаров И пальмовые стебли красных лилий, Дурман от флоксов, ирис желто-синий Иль мак безвольный, от стыда багров? *** В конце концов отношение к себе как к «объекту» имеет преимущества наличия материала, который хоть и имеет исходные характеристики, но может быть обработан во времени до каких-то одному ему известных параметров «совершенства». С другой стороны неизбежно время само выступает резцом, превращающем материал в инструмент, порой безжалостный и неуправляемый. Ты думал, что со всеми, вместе, Что нужен лично ты, такой, Каков ты есть, весь с головой… Ты - жертва равенства и чести, Ты - средство, а не цель, ты - boy Машины мыть перед мотелем... Жить для себя, быть только телом - Нет, этот идеал убог, Ты с ним не выживешь. Смириться И самоудовлетвориться? Но потребитель - каннибал. Ты им уже, хоть мог, не стал. А кем ты стал, пока устал? Трубил:
to be or not to be? Мать надорвал, себя убил И жив-здоров, красив и важен. О Господи, какая лажа Была вся прожитая жизнь, «Дурак. Испортил песню». Вниз На землю, к людям, к человекам. Учись у камня, всем от века Дающего пример и смысл И никому. Сойдись с природой Своей и вырасти на ней Сад из причудливых камней. Теряешь - миг, находишь - годы. *** Наполненность мира «человеческим веществом» делает урбанизированное пространство более формообразующим для личности, чем, кажется, она себе представляет. Ночь лужицы держала за края, подергивая ниточки оборок, и улицы свежели от уборки под струями машинного дождя. Редкий таксист сквозь елочный убор ненужных украшений светофоров из дому вез, скучая в разговорах, ночного ухажера в дальний дом. На площадях висела тишина, и тайники людей не выдавали тайны, казалось, город был порожней тарой, где небо вместо выбитого дна. *** Присутствие в одиночестве ─ может быть единственное счастье большого города. Конечно, «лучше быть первым парнем на деревне, чем последним в городе», но жизнь «на виду» порождает отсутствие «может быть». Ноги легкие - Сердце тяжкое. Шаг за шагом - За затяжкой затяжка. За порог бегом В город, в ночь, в сквозняк И в бульвары, лбом Прислонясь, - молчать. Слушать эхо сна: Тихий скрип пружин, Шумный шум машин. Видеть: клумб десна Пустотой кишит. Тихо в городе, Точно в омуте. Только скрип пружин, Только шум машин. *** С детства было ощущение разрозненности человечества. Тоска по дружеству оборачивалась жесткой и бессмысленной соревновательностью, где чужая природная хитрость, что можно бросить в глаза песок, обрывалась в слезы от предательства и первого знакомства с нарушением «правил». Одинокий мир игрушек выливался в их творчество ─ строились пластилиновые флотилии, которые плавали в ванне, армии, воевавшие на огромном подоконнике. Мир возвращался назад в игрушечную величину и был смят как реальный беззвучными выстрелами времени. Моя кукла, Мой образ смешной и печальный, Мой пластмассовый, Массовый мой камуфляж, Ты машиной размноженный, распечатанный, Купленный паж. Ты мой друг. Я, наверное, мысли твои угадаю. Моя кукла, в глазах твоих страшный вопрос. Да. Мы сегодня с тобою справляем День голубых волос. *** Вообще-то машина (mahina), как образ «избавителя», «последнего героя» так и прыгает к нам из учебников по древнегреческой литературе с замысловатого театрального рычага. Только теперь не механический, а электронный избавитель-интернет, создавая иллюзию преодоления одиночества, опускает человечество во всемирную информационную помойку, сиречь паутину. «И мух давил». Здесь новостройка. Грязь. Вода… Хоть поливальную машину Пустите ночью мне сюда! Деревья чахнут вдоль фасада, Свою пупырчатую спину Микрорайон подставил взгляду. Отходы преют исполина, В свиную превращаясь кашу, - Что за унылая картина? «В Томашув, миленький! В Томашув!..» *** Борьба с пространством-временем, что за абсурдная задача — но именно она заставляет все более и более механизировать мир, в том числе и мир имагинаций, создавая ложные ценностные ориентиры. Проглядывает свет сквозь
неба желтизну. Вычерчивая эллипс ипподрома, В каркасе труб машины гроб
за гробом Закручивают виражи на льду… Как короток их срок, Флажок их клетчатый, их
шашечка, их стих, Их круг победный, их зеро
- Им только времени дано
На миг… Подошвами примерзнуть на
ветру, Навечно воплотиться в желтизну Слепящего полуденного неба… О, как же хрупок жизни
стебель, Ладонью скорости растертый там на льду! *** Преодоление материала — конец формы — стало одним из главных задач искусства в прошлом столетии. И кто видел, «как течет река»? (С.Цвейг) Король оказался … Все оказались в … Но сколько затей для умных голов, потерявших «чувство у ветра». Из размышлений о Пикассо Приветливое безумье У птицы, у рыбы, у глаз, Когда хладнокровие дует Изогнутой страстью угла, Когда, выпадая из пепла, Сворачивается поцелуй В разорванную петлю И сломанную иглу. Года в освещенье голландском, По бычьи натужившись, прет Со смертью галантные танцы, Раскрученные в водоворот, А жизнь - приворотные ласки От иноплеменных существ Гитарою, флейтою, фарсом И волосом из ушей. И вытянутый до металла, И плоский до жесткости глин Топорщится грязью кристалла И вялостью блеющих спин. *** Невыразим незабываемый запах пропотевших строительных рукавиц, сладковатый вкус горячей цементной пыли и — о, бензин!. Топорище нагрелось в холодной руке, ]≋[[1] сучки отлетают с металлическим звоном, ]≋[ в воздухе бьют камертоном, ]≋[ он тянет свой звук по дуге - Эта музыка потом замерзшим пробила бушлат, ]≋[ нездешние сны забываю, ]≋[ запах От волос твоих. ]≋[ взгляд поднимаю на запад. ]≋[ клюквенным соком струится закат. Моих выцветших роб и железных сапог Несть числа - несть числа моих жизней. В моем ящике черном, в колодце, в отчизне, В ]≋[ тьме, где ]≋[ теплится твой уголек. Все во мне остается, ]≋[ в черной дыре, Галактический сумрак меж сосен гудящих утробен - Я живу в лабиринте, Минотавру подобен, ]≋[ слежу за клинком, что на горло наводится мне - ]≋[ мой смех неподделен - я в его пребываю броне, Не способной отбить ни минуты у смерти, ]≋[ сквозь тонкую поросль чуть седеющей шерсти Снег души ]≋[ в бесконечном бессмертном огне. *** Металл всегда ранящ. И сколько бы мы не пытались с ним «подружиться», использовать его, положить в основу современной материальной культуры, он все равно ржавеет на наших кладбищенских плетнях и, сопряженный с огнем, обжигает и обрубает наши незащищенные тела. И выходить боль, и выкручивать ручку До ритма, удара пером по бумаге, Когда на губах ощущенье от влаги На лбу у ребенка, что снами замучен. И сколько ни думай, что снег одинаков, Он вечно другой, - мы обмануты завтра, Окалиной руки изрезаны, автор Освистан и вывернут весь наизнанку. Я только живу - неужели мне мало Металла воды ледяной, и постели Уже с деревянной подстилкой, и тела, Которое ночью меня поднимало? *** Агрессивное начало мира ─ там, где-то, где нас нет и мы узнаем о нем каждый день по телевизору ─ но лунный луч, к нашему несчастью, не менее жесток, чем разорвавшаяся торпеда. Так звери хрипят, надрываясь, Когда металлический нож Проходит, слегка нагреваясь, Как луч через летнюю ночь. И мы в этом свете теряем Рассудок движенья, и тьма Родная нам все повторяет, Пока мы не сходим с ума. Так жизнь остается нагая В обрывках вчерашних газет, А крыса в огне проедает Безвыходный выход на свет. *** Железный привкус крови ─ родственность с металлом, в который, чтобы усмирить его своенравие, вкладываешь по куску свое тело, дыхание, ритм сердца ─ Каин и Авель, вечная угроза смерти в крови и от металла. Так в вечности дремлют зловеще Еще не ожившие вещи - Мы будем им чем-то сродни, Когда семафоров огни Зажгут инфернальный свой свет - А мы еще ищем ответ. *** Когда неожившие вещи В машинах ревут, и скрежещут, И бьются, как зубы о нож, - Небесный квадрат подытожь! Нам горло в предчувствии гласных, Неведомых и безучастных, Рвет жилы от паха до рта - И в чем здесь твоя правота? Здесь лимфа спекается в ком И лезет на свет кадыком, А слово - игла в каблуке, Чтоб шить на своем языке, Здесь грех не считают грехом, Когда соберешься глотком Железною кровью напиться… Дай, Господи, - проговориться! *** Правила техники безопасности на нашей вечной стройке жизни обязывает нас носить обувь со вшитыми в ботинки железными носами ─ фраерская обувь десанта морской пехоты для рукопашного боя ногами. В этой стране, где все всерьез - Власть, и народ, и мороз - Мы проживаем с рождения до Смерти, играющей в домино, Снашиваем - одень нас в железо - Душу, одежду, протезы, Помним, что было, знаем, что есть, Верим, что будет - живем мы здесь.
*** «Трещётка» в груди — мопедный слабенький мотор в корпусе тела — дух вылетел, но борение осталось. Борение перешло в боль, к боли привык и только смотришь на букву t, стремящуюся в тупик бесконечности. Плоть принудительна, а дух неверен. Недели пролетают, месяца. О, время, легкокрыло и железно, Когда не ведаешь Творца И сердце бьется одноместно. И мелочно и трудно жить. Сравнение с другим не в пользу. И носишь смертную занозу, И хочешь истине служить, И гильзу мнешь у папиросы. Все это - комплексы культуры Между де факто и де юре: Завод, горелой стружки блеск, Прочитанной макулатуры Дым в голове, и чад проблем, И незатоптанный окурок.
[1] Знак алеаторики. Ставится в таком месте текста, в котором автор предоставляет читателю возможность самому решить: нужно ли в этом месте какое-либо слово или выражение или можно обойтись без него. |