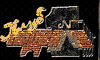МЕДИТАЦИИ МАШИН
С тех пор как человек стал формулировать сверхчеловеческие задачи,
он непрерывно объединяет «под идею» людей и материальные
ресурсы, организуя их в вертикальные древовидные иерархии, которые философ
Мэмфорд назвал мегамашинами. Однако, объединяющие метафизические идеи
в этих мегамашинах начинают играть все более значимую роль, постепенно
вытесняя материальное. Наконец, появляется Ницше с его сверхчеловеком,
что и вызывает к жизни многообразные технологии генерирования сверхлюдей,
представляющих собой воплощения метафизических виртуальных мегамашин.
Одни из этих мегамашин биологомеханические, другие механобиологические.
Далее приводятся монологи этих и других мегамашин.
***
звереет вера
шарик рикши
ртутинка сирени, закатывающей мертвый глаз
за белые льды твоей измены
***
Любовь машин — это торнадо глаз —
засасывает коктейлем ревущий магнит,
в животе твоем помещается автоваз
миллиардами пуль рейтинг звенит.
Я завожу металлических пчел,
гладкой ветошью облизав им зад,
все твои колебания я учел,
и бешеные тусовки твоих номад.
Сварливые гунны ─ мы жрем металл,
свинца и ртути на деснах рахат-лукум,
отполированных взрывом я не ласкал,
в атриум запчастей превращая ум.
Грохотом камня я воровал бензин,
суднами сумасшедших домов у дверей,
и шестерни цветов твоих целовал один…
груди капканов с лица своего сбрей…
***
а спрошено будет
не отвечай
а ответишь
встань у спиральной дороги своих остановившихся часов
вдыхать весну каменеющим пахом
***
Здесь пьяница фонарь глотает свет,
и город искривляет истуканы,
после удара катятся стаканы,
парадом уничтоженных планет.
Под фейерверк гитаны и фарца
«макаровым» низвергнутые формы,
восходят, отделяясь от платформы,
где каждый в каждом видит подлеца.
И бритый металлический скинхед,
тупой гибрид фашизма и футбола
бензопилою вышивает соло
арийской шкуры мезозойских вед.
***
четверозначный волчонок
первый глаз золотой
второй озерный
третий глаз шестерня мельницы у ручья
четвертый глаз — пустыня ночи
серебряная балерина
чертовой полосы на топографической карте
***
В этой северной части живут застекленные льды.
Только свет пролетающий вечно беспечен и розов,
и звенит однозвучно конек о наследие россов,
и танцует на льду отраженье горючей звезды.
Никогда и никто не сошьет эту пропасть во ржи.
Только руки до крови исколют стеклянные стебли.
Запахнув на груди белоснежную шубу метели,
только ты и жива и как в юности губы свежи.
В этой северной части все гуще и каменней ночь,
и на ссыльной телеге все те же усталые тени.
Запахнув на груди белоснежную шубу метели,
ты им снишься всю ночь и с рассветом уносишься прочь.
На горах и в лесах, посреди бесконечных полей,
в несказанной печали, как велено было звездою,
ты простила нас всех, окропив ледяною водою,
перепутав цвета и знамена своих кораблей.
Флибустьеры и ратники, сброд для греха и души, -
в этой северной части, где бродит усталое лихо,
мы уснем под твою заунывную песню и тихо
будут вечность и страх подо льдом шевелить камыши.
***
оттиск ежа твоя жалоба
мел, пожирающий время:
жуткое счастье разрушить следы аподем,
там, где стояли аварцы
лишь чертовы пальцы,
танец вуалей напоминает слюда.
Расы камней разрушаясь
текут по ладоням и косы
переплетают в тумане молочные плесы,
вивианит осыпается с ради/о/активного жернова,
голубь, как взрыв перед взрывом опасно вращается,
и образует созвездие черного голубя.
В каре лишь тьма тишины!
Не бунтует порфир под вуалью бутылочной глетчера,
перст корнуэльского камня
с персидскою искрою глаз
шепчет молитву и трогает воздух, как бритву.
***
кошка дерева черного трубчатый хвост надувной
размножает потоками дыма качанием веера
и зеркальная сажа ее эбонитовых икр
раздуваемых ветром зеленого тленья и пенья
это в ней напряжен исковерканный тьмою завод
это свет поглощенный ютится в зеркальных раструбах
и бежит лесоруб и сверкает бездонный топор
и качается маятник солнца в пронзительных трубах
кошка вытянет длинное тело и хрустнув стволом
полетит рукавица скакать по грохочущим плитам
это рабская плоть в твоих латах блестит сталактитом
коготь вязнет в расслабленном дремой стволе
***
грустно кувыркается монах
полумесяцем сапожок
раскосая русь
свисток из-под глины тысячелетий
девушка выплюнувшая горошину
***
стою один на желтой полосе
песка в которой рушатся цилиндры
слоны и пирамиды в колесе
мелькают кудри огненные Индры
возможно это светится планктон
так светится тунец в своей кольчуге
переплывая чрез Армагеддон
в сознании моем как в центрифуге
и волны фрезеруют синеву
воздушную почти отполирован
спит горизонт ослабив бечеву
в моем затылке дюной зашнурован
возможно это скачет апельсин
меж влажных ребер по каменоломне
в которой доцветает клавесин
ночного неба и на поролоне
волны гремит доспехом Марс
и бьет мечом по амальгаме звонкой
и пробуждает в бронзе фиберглас
и мой зрачок пружинит и воронкой
отбрасывает тень глотая свет
и молотом стучит по океану
пустых фотографических кассет
где воет каждый сплющенный предмет
где каждый смертный обретет нирвану
***
Над шахтой виноградника восходит
подъемник Солнца.
Стоматологические маски покидают
коммуны скал,
расшатанных, как кресла.
Гинеколог хохочет в сумасшедшем доме,
лицезрея, как писает нимфетка.
А нимфетка никак не может удержать струю
над рожей главврача —
такая скука…
На отдаленном кладбище антенн
проводят воскрешение из мертвых:
ревут многоканальные могилы —
старшины флота, черти и комбаты
никак не могут выстроить дебилов,
которых угораздило родиться,
чтобы потом загнуться в одночасье…
Иванов
бежит,
летя,
частями самолета,
Петров
приладил к заднице гараж
и так застыл…
А Сидоров, каналья,
украл завод
и, как паук, сидит,
сцепившись
с паутиной
металлолома.
Себя он называет новым русским.
Нежная Надежда,
возможно, всех
трудящихся,
сто рук, засунула в карманы идиотов,
сорок стройных ног,
одетых в итальянские колготки,
расставила в присутственных местах,
особенно вблизи от телекамер…
Попробуй всех их взять и оживить…
Над шахтой виноградника заходит
подъемник Солнца,
над рекой
мост женских треугольников -
их ноги
образуют хризантемы зеркал, -
так сумрак образует части суток,
и в мертвом винограде лунных лунок,
в коробках молний,
бесятся щипцы -
и плоть кричит:
во сне ее не слышно…
Над шахтой виноградника восходит подъемник Солнца -
строить абортарий
мобилизован каждый воскрешенный!
Ты!
Отцепи от задницы гараж,
Ты!
Брось завод,
сигни из самолета,
и перестаньте шарить по карманам,
мочиться в рожу главному врачу -
всем строить абортарий!
Вы - живые!
Покамест
я
вас вижу и лечу!
***
Позарастали юности, зрелости поднебесной.
Кошка в углу.
Черная кошка, невидимка Олимпии.
Тысячи лиц крыльями пенят воздух,
Своды храмов.
Лопаются пузыри вер пластичными акцентами цивилизаций.
Провидение распахивает грудь ангела.
Вечер окончен, гости ушли.
Любовь - восьмикрылая птица,
целует голема варшавского гетто,
кивает огню, кивает:
белые искры земных густот.
Дева - обида над полем,
голем возле зданья генштаба.
Ящерицы памяти в бескрайней пустыне внутреннего
мира.
Пороги скулят, оплакивая твою ступню.
***
Небо рисует утром твое лицо.
Твоя двойница летит, превращаясь в звук.
Ты вся из углов, но объятий твоих кольцо
Замыкает нежности просветленный круг.
Вечер тебя приведет в подземелье снов.
Крепче вцепись мне в локоть, заметив розу.
Что же нам делать, если как грусть лилов
Вкус нашей страсти? Я отведу угрозу.
Мастер стальных цветов и стальной Орфей,
Я позабыл про ветвь соловьиной трели.
Ты выступаешь вслед вереницей фей
И заметает следы колдовство метели.
Чувства твои темны, точно тень огня.
Музыка страха цветные шары качает.
Волны любви. Я прошу, позабудь меня,
Если случится, что память равна печали.
В темном углу твоей страсти за грудой лиц
Монстр многоликий театра, но ты - кузнечик.
Твой кувырок до звезд через ряд зарниц,
Через засаду детства ко мне на плечи.
Шарик жонглера и то не умел поймать,
Я приручаю к ладоням твои полеты,
Блики на крыльях и зыбколунную стать,
Не понимая, кто мы друг другу. Кто ты?
Куколка спит, скорлупиный лелея хрип,
Боль оставляет пыль в кузовке желаний.
И, пролетев тоннель, как цветочный всхлип,
Предпочитаешь плавать в своей нирване.
Кто-то принес клинок и забыл отнять.
В Риме играют в карты, в Пекине - в кости.
Ты вне игры, но как сладко с тобой играть!
Ты, проигравшая, краше еще от злости.
Ночь растворяет тень, но касаний блик
Нас, отразив друг в друге, смыкает гребни.
Мастер стальных клинков я ловлю твой лик,
Но даже Ангел в сиянье твоем ослепнет.
|